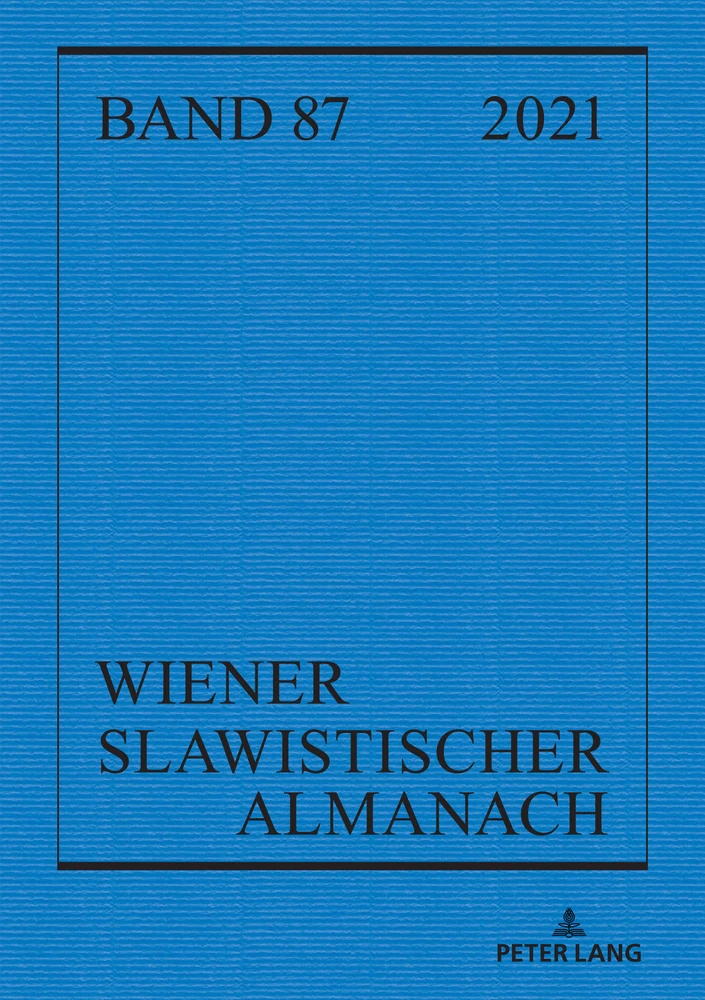Wiener Slawistischer Almanach Band 87/2021
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Осип Мандельштам: язык и интертекст
- От редакции
- Идиоматический поворот в литературоведении? О книге П. Успенского и В. Файнберг «К русской речи» (Кристиан Цендер (Universität Fribourg))
- Летняя сказка. Стихотворение Осипа Мандельштама «Пароходик с петухами...» (1937) (Марина Бобрик (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва))
- Зеркало Сусанны. К прочтению «Веницейской жизни» Осипа Мандельштама (Евгений Сошкин (Свободный университет в Москве))
- Андрей Платонов: мотивы и контексты / Andrej Platonov: Motive und Kontexte
- Мотив переименования персонажа в произведениях Андрея Платонова (Евгений Яблоков (Институт славяноведения РАН))
- Платоновские контексты: Павел Филонов и учение Николая Федорова (Леонид Геллер (Université de Lausanne))
- Musikalische Motive bei Andrej Platonov. Eine diachronische Untersuchung (Hans Günther (Universität Bielefeld))
- Zwischen Utopie und Zensur – Platonovs Prosa der Kriegsjahre (Robert Hodel (Universität Hamburg))
- Статьи / Aufsätze
- Прагматика мотива и антропология «жизненного мира» (Константин Богданов (Институт русской литературы РАН, Санкт-Петербург))
- «Невидимая гипербола» у Н. В. Гоголя: К вопросу о механизмах дискурсивного выделения (Геннадий Зельдович (Uniwersytet Warszawski))
- Обэриуты в оценках журнала Детская литература (1932–1939) (Олег Лекманов, Михаил Свердлов (НИУ ВШЭ, Москва))
- Время набоковского Дара – забавы хронического мистификатора (Маша Левина-Паркер, Михаил Левин)
- Проблемы лексикографического представления русской разговорной речи в толковом словаре (Леонид Крысин (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва))
- Rezensionen
- Belyj, Andrej (2020): Istorija stanovlenija samosoznajuščej duši (Karen Swassjan, Basel)
- Günther, Hans (2020): Revolution und Melancholie. Andrej Platonovs Prosa der 1920er Jahre (Rainer Grübel, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
- Krüger, Kersten / Rothe, Horst (2019): Ukrainisch-deutsches Wörterbuch (Tillman Reuther, Universität Klagenfurt)
- Ladygina, Yuliya (2019): Bridging East and West. Ol’ha Kobylians’ka, Ukraine’s Pioneering Modernist (Stefan Simonek, Universität Wien) (Stefan Simonek, Universität Wien)
- Rossomachin, Andrej (Hrsg.) (2021): Sverchpovest’ „Zangezi“ Velimira Chlebnikova: Novaja tekstologija. Kommentarij. Recepcija. Dokumenty. Issledovanija. Illjustracii (Anke Niederbudde, Ludwig-Maximilians-Universität München)
- Uffelmann, Dirk (2020): Polska literatura postkolonialna. Od Sarmatyzmu do migracji poakcesyjnej (Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski)
- Wanner, Adrian (2020): The Bilingual Muse: Self-Translation among Russian Poets (Dirk Uffelmann, Justus-Liebig-Universität Gießen)
- Errata
- Reihenübersicht
От редакции
130-летие со дня рождения О. Э. Мандельштама Венский славистический альманах отмечает блоком материалов, посвященным одной из центральных проблем в освоении творчества великого поэта. Поводом стало появление монографии Павла Успенского и Вероники Файнберг «К русской речи. Идиоматика и семантика поэтического языка О. Ман-дельштама» (М.: НЛО, 2020), которую рецензирует Кристиан Цендер. В книге подвергается критике интертекстуальный метод анализа Мандельштама и предлагается альтернатива – обратиться к первооснове поэзии, ее языку, а именно фразеологии. Два обширных исследования, принадлежащие Марине Бобрик и Евгению Сошкину и публикуемые в этом блоке, демонстрируют на примере интерпретаций отдельных текстов возможности обоих методов и показывают – как нам кажется, – что выход к пониманию может заключаться не в следовании догме или ее опровержении, а в нацеленном и комплексном использовании различных филологических инструментов вне зависимости от того, какой именно принцип – языковой или интертекстуальный – опреде-ляет оптику исследователей.
Перед отправкой номера в печать нас настигла весть о кончине Юрия Львовича Фрейдина (1942–2021) – одного из первопроходцев мандель-штамоведения, душеприказчика Надежды Яковлевны Мандельштам и сопредседателя Мандельштамовского общества. Имя Ю. Л. Фрейдина звучит на страницах обоих исследований номера; авторы и редакция Венского альманаха скорбят о его уходе и посвящают материалы ман-дельштамовского блока светлой памяти этого светлого человека.
Кристиан Цендер
Идиоматический поворот в мандельштамоведении? О книге П. Успенского и В. Файнберг «К русской речи»
Павел Успенский, Вероника Файнберг. К русской речи: идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама. Москва: Новое литературное обозрение, 2020 (Научное приложение. Вып. CCVI). 360 с.
В своей монографии, опубликованной в 2015 году, Евгений Сошкин отмечает «методологический кризис» интертекстуального подхода к изучению поэзии Осипа Мандельштама (см.: Сошкин 2015: 23–34). Казалось бы, удивительно тут лишь то, что подобная констатация еще нужна: ведь расцвет эпохи интертекстуальности приходится на по-следние десятилетия ХХ века, как в общем литературоведении, так и в мандельштамоведении, «подтекстуальный» метод которого развивался вне зависимости от постструктуралистской французской теории, но одновременно с ней разделял базовый интерес к неявным сторонам текста. Если Юлия Кристева, Ролан Барт и другие обратились к лите-ратуре как к сфере пересечений голосов и наслоения следов, где «свое» и «чужое» становятся неразличимы вплоть до подрывания института авторства (cм., в частности: Barthes 1968: 5, 12–17; Kristeva 1969; Riffaterre 1979; Genette 1982), то Кирилл Тарановский и Омри Ронен описывали чужие голоса в поэзии Мандельштама как строго находящиеся под контролем автора, как нити в его руках. Как Тарановский и Ронен, так и их последователи исходили из принципа «тотальной мотивиро-ванности всех элементов» у Мандельштама (cм. об этом: Сошкин 2015: 19–25); соответственно, их задача заключалась в полном раскрытии «доминантных подтекстов», позволяющем верное, в каком-то смысле окончательное прочтение данного стихотворения. Легко увидеть разницу ←13 | 14→между интер- и подтекстом: установка на под в итоговом счете прямо противоположна установке на между1. Однако, несмотря на строго научные претензии подтекстуального метода, доминирующего в мандельштамоведении с 1970-х годов, он также оказался подвержен упрекам в произвольности (которой сам Ронен в своей классической книге «An Approach to Mandel’štam» избежал в силу невероятной эрудиции и методологической последовательности, а также формалист-ской чуткости к языковому устройству текста). Так, в скандальном докладе 1992 года «Об одной тенденции в современном мандельштамо-ведении» Максим Шапир назвал одну из крайностей в занятии подтекстами изучением того, «чего нет – не только потому, что это проще: о том, чего нет, можно сказать всё что угодно, и всё будет правда, ведь проверить ничего нельзя» (Шапир 2021). Тем самым кризис метода был отмечен, причем самым острым способом, довольно рано. Однако, говоря о «методологическом кризисе» в недавнем прошлом, Евгений Сошкин призывает к восстановлению подтекстуальности как научного метода в духе «An Approach to Mandel’štam», цель которого заключается именно в исчерпывающей, по возможности твердо доказуемой реконструкции текстов «под» текстом. Работы Сошкина (одна из которых публикуется в настоящем томе WSA) являются манифестациями этого метода, предполагаемым ответом на вопрос о его уместности.
Этот же вопрос ставится в заостренной и полемической форме в рецензируемой монографии «К русской речи: идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама» (2020). Ее авторы Павел Успенский и Вероника Файнберг не только полемизируют с подтек-стуальным методом, следуя более или менее по тропе, проложенной Шапиром, но и претендуют на то, чтобы предложить полноценную альтернативную программу, а именно поставить в центр изучения Мандельштама работу поэта с идиоматикой – т. е. преодолев, наконец, тоску по мировой культуре, обратиться «к русской речи». Ссылаясь на ←14 | 15→парадигму «семантической поэтики» (cм.: Левин 1974: 47–82), сами ав-торы вписывают свою альтернативу в иную, но также уже сложившуюся в мандельштамоведении исследовательскую традицию. Отдельных наблюдений на тему идиоматики в поэзии Мандельштама приводится в книге немало2, причем, интересным образом, среди них выделяются наблюдения самого Ронена, а также Тарановского. Тем не менее, проблема идиоматики оставалась на периферии мандельштамоведения и получает первое систематическое освещение только в рассматриваемой книге3.
Ключевое преимущество идиоматики по сравнению с подтекстами, выдвигаемое авторами, заключается в том, что ее наличие в стиxхотворениях чаще всего не подлежит сомнению, тогда как подтекст в конкретном тексте по определению всегда отсутствует, будучи скрытым «под» текстом, и обозначается лишь намеками или частичными цитатами. Однако наличие идиоматики (в широком смысле слова) не означает, что она видна каждому: бесспорное присутствие этого материала в поэзии Мандельштама оставалось не замеченным не только практически всеми иностранными, но и многими русскоязычными исследователями, что лишний раз свидетельствует о различии техник интерпретации и внимательного чтения. Парадоксальным образом самый нормированный и очевидный аспект языка Мандельштама приходится раскрывать ничуть не менее «археологическими» способами, чем некогда подтексты. Кроме того, если каждый очередной установ-ленный подтекст потенциально увеличивал репутацию Мандельштама как поэта уникального культурного размаха, то пересмотр хотя бы «Стихов о неизвестном солдате» в свете очень широко использованной в них идиоматики, на первый взгляд, подрывает наше представление ←15 | 16→об исключительной самобытности поэзии Мандельштама (вписанной при этом в единый текст мировой культуры).
Русская филология была, казалось бы, как нельзя лучше подготовлена к анализу поэтической обработки идиоматических выражений. «Реализация метафоры» русских формалистов чаще всего означала именно оживление конвенциональных языковых формул4. Этим термином формалисты описали распространенную в поэтической практике русского модернизма фигуру и ввели ее в теорию литературы; достаточно вспомнить о знаменитом месте у Маяковского, где буржуазия из мухи делает слона и продает слоновую кость (Маяковский 1957 [1920]: 91). Интенция авторов «К русской речи» лучше всего иллюстрируется отношением к футуристическому обращению с языком: с одной стороны, они сближают Мандельштама – не только позднего – с футуризмом, вынося за скобки его акмеистскую, неотрадиционалистскую эссеистику. С другой стороны, они описывают мандельштамов-скую работу с «несвободными словосочетаниями»5 как менее явную и демонстративную, чем у Маяковского. Успенский и Файнберг пишут:
Хотя некоторые случаи обыгрывания фразеологии у Маяковского пересекаются с примерами из мандельштамовских стихов, думается, что в целом Мандельштам пошел по пути более изощренной работы с семантикой, […] он так сильно не выделял используемую в текстах идиоматику (закономерно, что многие примеры в стихах Мандельштама не бросаются в глаза). […] у Маяковского обращение к фразеологии предстает эффектным приемом, рассчитанным на быстрое узнавание, тогда как у Мандельштама оно настолько органично, что определяет фактуру всего поэтического языка. (302)6
←16 | 17→Характерно, что к стихам Маяковского прилагается формалистский термин «прием», a Мандельштам представляется «органичным» в своем подходе к идиоматике7. Авторы, как кажется, сознательно отказались и от формалистского понятия «остранения» применительно к Мандельштаму; оно в книге ни разу не упоминается, а вместо этого используются такие понятия, как «переосмысление», «трансформация» и «обыгрывание». В контексте «идеологии» авторов это решение понятно по двум причинам: они понимают языковую «норму» или «нормативный язык»8 не как повод для отклонений, а скорее как ресурс, который приобретает ценность не только в силу его деформации. Тем самым снимается проблема телеологичности (ранне-)формалистской эстетики. Виктор Шкловский писал: «И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, […] существует то, что называется искусством» (Шкловский 1929: 13; курсив мой – К. Ц.)9. Искусство определяется тут как сознательно-целевое нарушение установленных норм. Разумеется, норма (на разных уровнях) как-то должна присутствовать как точка отсчета для того, чтобы ее нарушение было узнаваемым. Тем не менее, авторы «К русской речи» приписывают норме принципиально другую роль, чем в формализме: в их понимании поэзия Мандельштама основывается на несвободных словосочетаниях, несмотря на то, что она в большинстве случаев использует их в деформированном виде: «[…] язык поэта на уровне явленных в тексте слов часто предстает необычным и удивительным, но на глубинном уровне этот же язык связан с нормативным узусом» (327). Отход авторов, хотя и не декларативный, от формалистской эстетики остранения в пользу ←17 | 18→не до конца осознаваемой «глубинной», более иррациональной суггестивности бросается в глаза10.
Авторы ссылаются на работу Бориса Успенского «Анатомия метафоры у Мандельштама» (1996), где тот описывает принцип «лексической замены», т. е. использование несвободных словосочетаний, в которые поэт включает в определенном месте «неожиданное слово» вместо нормативного (49–51), а также на статью Юрия Фрейдина «„Просвечивающие“ слова в стихотворениях О. Мандельштама» (2001), где Фрейдин разбирает тот феномен, что весьма часто кописты Мандельштама «поправляли» его тексты, вставляя более ожидаемые прилагательные. «Возникает отчетливое впечатление», писал Фрейдин, «что эти слова как бы находятся в самом тексте, но не в явном, а в полускрытом, латентном состоянии» (310). Отсюда авторы приходят к одной из своих главных гипотез: идиоматика, в своем «нормативном» виде, сохраняется в поэзии Мандельштама и является тем фактором, который под определенным углом чтения делает его стихи доступными и «интуитивно ясными» (276), «интуитивно понятными» (317) непропорционально их кажущейся сложности. «Взаимодействие с языком», аргументируют авторы, «позволяет его произведениям быть одновременно поэзией сдвигов (столь ценимых в модернизме) и поэзией формул (столь характерных для традиционной литературы в широком смысле слова)» (45). Идея, что специфика стихотворений Мандельштама лежит в их «виртуозной двойственности» (там же) между авангардом (сдвигами) и конвенцией (формулами), представляется, взятая сама по себе, очень убедительной11. Но самая интригующая сторона ←18 | 19→концепции является и самой рискованной. Авторы выводят из этой двойственности своего рода прагматическую категорию, выражающую особую «понятность» стихотворений Мандельштама для «искушен-ны[х] (и не очень) любител[ей] поэзии» (31). С этим и связан полемический выпад книги: исследователи подтекстов, как утверждается, занимаются мнимой проблемой, так как «смысл» якобы темных сти-хотворений Мандельштама вырастает из работы с русским языком, и этот уровень доступен читателю непосредственно без подтекста, а именно благодаря тому, чем читатель «в большей или меньшей степени наделен с детства, – чувств[у] языка» (286).
К вопросу о родном языке исследователей мы еще вернемся. Нель-зя не признать, что уровень непосредственной доступности в той или иной мере всегда присутствует даже в самой «сложной» поэзии от, скажем, Гельдерлина до Целана. Беда тому поэту, который не обладает никаким пред-интеллектуальным регистром и в стихах которого ни-чего «само собой» не разумеется. Вопрос, однако, заключается в том, следует ли разыгрывать этот уровень «понимания» языка как таково-го против возможных других, неочевидных уровней текста и отрицать осмысленность работы тех, кто посвящает свои усилия неявным уров-ням, проложенным «под» поверхностью. Здесь возникает проблема в связи с такими часто употребляющимися в книге герменевтическими категориями, как «смысл», «понимание», «интерпретация», «интуи-ция», «переживание», относящимися в других контекстах чаще всего к произведению искусства как целому12. В своих подробных разборах авторы же скорее построчно комментируют поэтическую работу с ←19 | 20→языком, нежели предлагают цельную «интерпретацию» данного тек-ста. Подход детального комментирования вполне адекватен и должен в идеале представлять собой начальный этап подхода к тексту, но не исчерпывать его. При чтении книги создается впечатление, что герменевтический понятийный аппарат отсылает к филологической задаче, которой книга на самом деле вовсе не задается. Так, если отмечается, «что понять формулировку Мандельштама одинокое множество звезд можно и без подключения „Спорад“ Иванова» (42)13, то это безусловно верно, но остается неясным, какие контуры будут у этого «понимания». Тот факт, весьма примечательный, – что формулировка одинокое множество звезд«обыгрывает „готовые“ языковые конструкции, контрастно отталкиваясь от таких частотных выражений, как великое множество, бесконечное множество» (там же), – дает конкретный инструмент для интерпретации четырех загадочных строк «Были очи острее точимой косы…», но сам по себе еще не является интерпретацией.
Идиоматический подход помогает избежать, если можно так выразиться, подтекстуальных надинтерпретаций, в этом заключается одно из его преимуществ: дисциплина чтения должна сдерживать спекуля-тивность. Поэтому, в частности, идиоматический анализ необходим и сторонникам подтекстуального метода – что хорошо знал Ронен, но не все его последователи, и о чем эта книга напоминает. Тем не менее, представление о том, что в сферу стихотворения естественным образом входят тексты, которых в нем самом нет, другими словами, что стихотворение как бы трансцендирует свою собственную поверхность, гораздо менее странно, чем допускают авторы: сам смысл стихотво-рения как целого, устанавливаемый читателем, по сути, находится по ту сторону текста. Кроме того, весь «поэтический мир» (cм.: Жолков-ский/Щеглов 1975: 143–169) не является частью самого текста, а скорее вызывается им. Иначе говоря, сколько ни придерживайся языковой поверхности стихотворения, она в процессе чтения непременно прео-долевается. ←20 | 21→Симптоматично, что это имплицитно подтверждается по-стоянным употреблением в книге понятия «смысла».
В программном введении «Без подтекста. Критика интертекстуаль-ного толкования Мандельштама» (6–45) авторы неоднократно оговари-ваются, что они, при всей острой критике подтекстуального подхода, не опровергают его полностью (12) и что он в принципе не противопо-ставлен идиоматическому; однако «в нынешних обстоятельствах изу-чения поэтики Мандельштама мы вынуждены противопоставить язык „подтекстам“» (38). Полемический стиль авторов вызван ситуацией, когда погоня за подтекстами нередко стала загораживать конкретные поэтические произведения, «будто поэт сам ничего и не сказал» (35), и цель этой полемики – открыть читателям глаза на фундаменталь-ную методологическую проблему. В этом смысле о книге действитель-но уместно говорить как о событии, возможно, рубежном в изучении Мандельштама в частности и подхода к поэтическому тексту в об-щем14.
Критика подтекстуального метода организована в несколько эта-пов. Первый аргумент можно назвать «человеческим»: по язвитель-ному aperçu авторов, подтекстуализм исходит из положения, что за мандельштамовской поэзией стоит не человеческий ум, а «еще не со-зданный квантовый компьютер» (8–9). В этой связи следует подчер-кнуть структуралистские истоки подтекстуального метода и заведомо контринтуитивного, отчасти сциентистского принципа тотальной мо-тивированности всех элементов. Вытекающая из этого принципа чита-тельская обязанность расшифровать все подтексты способствовала, в свою очередь, такому режиму чтения, когда анализировать стихи Ман-дельштама независимо от этой высокоспециализированной деятельно-сти оказывается почти предосудительно.
Второй аргумент авторов касается метонимического характера под-текстов, о котором говорил еще Тарановский. Отдельной цитатой – на-пример, ←21 | 22→строкой «И ни одна звезда не говорит» («Концерт на вокзале», 1921 [1923?]) (28, 30) – активируется не только соответствующая строка из «Выхожу один я на дорогу…», но целое стихотворение Лермонто-ва, будь то в аффирмативном ключе или с полемической интенцией. Эта метонимическая экспансия, по весомому доводу авторов, создает определенный дисбаланс между текстом и подтекстами; образно говоря, текст дает лишь палец, а подтекстуальный толкователь откусыва-ет всю руку. Объем подтекста, таким образом, резко возрастает, и сам текст постепенно обрастает различными наслоениями, закрывающими его поверхность.
Третий аргумент относится к мнемонической функции цитат. Ссы-лаясь на Пьера Нора, Мориса Хальбвакса и Ренате Лахманн, авторы понимают цитату в поэтическом тексте как «место памяти», так как в модернизме мнемонический пафос соседствует с иконоборческими тенденциями, гарантируя некоторую преемственность посреди ката-строфических событий и апокалиптических настроений (25). Авторы признают важность этой напоминающей функции, но в тоже время фактически отказывают ей в семантической релевантности и «смыс-лообразующей» (22) силе: «[…] текст Мандельштама напомнил нам о Лермонтове. Значит ли это, что „Выхожу один я на дорогу…“ влияет на смысл „Концерта на вокзале“? Это зависит от практик чтения» (29). Сама книга выдвигает такую практику, которая предельно уменьша-ет значимость подтекстов в пользу подчеркнуто позитивистской уста-новки на то, что явным образом присутствует в стихотворении. В этой связи необходимо оглянуться на интеллектуальное обоснование подтекстуального подхода у Ронена, тесно связанное с мнемониче-ским лейтмотивом акмеизма. Ронен указывал на акмеистскую поэти-ку загадки («[…] the riddle-like quality of the acmeist figurative language, which prompts the reader to search for the subtexts in the first place» (Ronen 1983: XII), и далее ссылался на важную роль памяти в акмеиз-ме: «The subtextual approach is justified also by the fact that memory is the fundamental concern of acmeism, and literary recollection is the cornerstone, not only of its aesthetic code, but also of its message» (там же). Это значит, что Ронен, во-первых, явно не считал Мандельштама «интуи-тивно понятным» и что подход, который ограничивается имманент-ным ←22 | 23→анализом, игнорирует в его оптике имманентную многим текстам загадочность15. Во-вторых, Ронен видел интимную связь между памя-тью и поэтикой: раз установлена важная интеллектуальная роль памя-ти, та становится «смыслообразующей» и поэтически; следовательно, смыслообразующими являются в акмеизме и «места памяти». Здесь, по-видимому, намечается поколенческое несогласие. Авторы «К рус-ской речи» читают Мандельштама не через призму акмеистской куль-турософии, а в гораздо большей степени как просто модернистского экспериментатора, хоть и не типичного. Таким образом, они историзи-руют саму установку на подтекстуальность как симптом специфически эмигрантской заботы о связи времен: «Постулирование зависимости смысла текста от „чужого слова“, сформулированное в работах Тара-новского и развитое Роненом, это существенный сдвиг в практиках чтения, вызванный тем же стремлением сохранить литературную тра-дицию, что и у самих авторов произведений» (26). Кроме того, авторы полагают, что в построениях Тарановского выражается культурный консерватизм русской эмиграции первой волны. Этому метафилоло-гическому наблюдению вторит другое, касающееся позднесоветских филологов. Умение расшифровать «эзопов язык» и культурная техника «чтения между строк» были присущи значительной части советской гуманитарной интеллигенции второй половины XX века. В этом смыс-ле филология 1970–80-х годов была хорошо подготовлена к реимпорти-рованной из эмиграции подтекстуальности. Дополнительным рычагом освоения метода послужила советская бытовая культура общения ци-татами (26).
С одной стороны, уязвимость подтекстуального метода еще не опровергает его; с другой стороны, важно понимать, что если подтек-стуальный подход чреват субъективными решениями, то это еще не значит, что кажущийся более объективным подход через идиоматику может заменить его без потерь. В идеале всё должно было бы сводиться к тому, чтобы, оставив полемику литературной критике, сочетать в научных исследованиях оба подхода. Тот факт, что Ронен является од-новременно ←23 | 24→самым критикуемым автором во введении книги и самым цитируемым в ее аналитических частях по вопросам идиоматики, го-ворит сам за себя.
Что не затрагивается в книге вовсе – это вопрос о «месте в жизни» (Sitz im Leben) поэтики Мандельштама. По каким параметрам Ман-дельштам собирал свой канон, ставший интер-/подтекстом его поэ-зии, в революционное время? Какую роль играл его устный, «на ходу», способ творения в работе с разговорной речью? В какой мере можно рассматривать интенсивное чтение Мандельштамом советской прессы (cм.: Лекманов 2013) как связующее звено между подтекстами и идио-матикой? В книге есть очень точные социологические наблюдения на тему рецепции творчества Мандельштама филологами – их «чита-тельских практик». Эстетика же самого поэтического производства не вошла в задачу авторов. В перспективе будущей интеграции идио-матического подхода в исследование Мандельштама вопрос о разно-образных жизненных обстоятельствах, в которых он писал, сыграет, как можно полагать, важную роль.
В главе «Классификация случаев использования идиом. Предва-рительные замечания» (58–68) вводятся шесть классов поэтической работы с идиомами, по которым в главной части книги, «Идиомати-ка у Мандельштама. Классы 1–6» (69–220), детально разобраны сот-ни случаев из всего творчества Мандельштама, от самих ранних до последних стихотворений: 1. «Проявление идиомы/коллокации в высказывании»; 2. «Семантизация элементов идиомы/коллокации в высказывании»; 3. «Десемантизация идиомы/коллокации в выска-зывании»; 4. «Частичное проявление идиомы/коллокации в высказы-вании»; 5. «Контаминация двух идиом/коллокаций в высказывании»; 6. «Контаминация более двух идиом/коллокаций в высказывании». В первой рубрике намечается градация от нормативного использования идиом (как « Ходит-бродитв русских сапогах») (1.1) через метафори-ческую субъективизацию (как «Но, как безумный, светел день») (1.2) до модифицированных, переставленных, разбитых идиом (как «Мы схо-дим медленно с ума») (1.3). Во второй рубрике собраны примеры семан-тизации идиом, как в строке «Луч пропавших без вести вестей»: здесь слово весть «сталкивается с самим собой, включенным в устойчивое ←24 | 25→сочетание [пропасть без вести]» (107)16. Если через семантизацию значение идиомы усиливается, то в третьей рубрике (десемантизация) оно нейтрализуется, как в примере (3.1): «Я участвую в сумрачной жизни, / Где один к одному одинок». Выражение один к одному не означает тут ‘сочетаемость двух явлений или предметов’, а наоборот, характеризует глубокое одиночество говорящего (112). Более сложный случай – десе-мантизация уже модифицированной идиомы (3.2), например: «С кем можно глубже и полнее / Всю чашу нежности испить». Тут, во-пер-вых, идиома испить чашу осложняется вставкой слова нежность. Во-вторых, значение идиомы, ‘испытать страдания’, приобретает дру-гой смысл (указывающий на творчество, а также на пиршество) (118). Очередной вариант десемантизации (3.3) налицо, когда идиома моти-вирует метафору, но сама исчезает. Так в строке «Кому – крутая соль торжественных обид» идиома круто посолить ‘сильно посолить’, ско-рее всего, не узнаваема, но она генерирует темную метафору «крутая соль» (123). В четвертой рубрике разбираются виды раздробления иди-ом. Первая группа (4.1.) – метонимический перенос элемента идиомы, как в примере: «Где ночь бросает якоря / В глухих созвездьях Зодиа-ка»; прилагательное из идиоматического выражения глухая ночь про-ецируется на другой субъект (созвездья). Замена отдельного элемента идиомы (4.2) принадлежит к самым главным феноменам в концеп-ции авторов. В примере «Рядом с готикой жил озоруючи / И плевал на паучьи права» идиома на птичьих правах ‘без законных оснований’ модифицируется в на паучьих правах (134–135). Принципиально важ-но, что подобная замена поэтизирует несвободное словосочетание, но заодно сохраняется концепт исходной идиомы, по мысли авторов, помогающей читателю «интуитивно» понимать идиолект Мандельшта-ма. Далее, подкласс 4.2 дифференцируется на случаи антонимической (например «черноречивое» вместо красноречивое) и синонимической замены («И расхаживает ливень» вместо идет дождь), а также случаи ←25 | 26→изоритмической и фонетически близкой замены и потенциальной ак-туализации идиом, как в примере «Сладко пахнет белый керосин», где керосин может (но не должен) ассоциироваться с идиомой дело пах-нет керосином(171). Пятая рубрика собирает взаимопроникновения двух идиом, как в строке «Вода их учит, точит время», где контами-нируются устойчивые выражения вода точит и время учит (177) (5.1), или «То всею тяжестью оно идет ко дну», где контаминируется идио-ма идти ко дну с фрагментом выражения с тяжелым сердцем (185) (5.2). Наконец в шестой рубрике собраны более сложные случаи контами-нации, которые, как показывает пример «И, как птенца, стряхнуть с руки / Уже прозрачные виденья!» – привлекший, опять же, внимание Ронена (201), – бывают не менее чреваты рискованными догадками, чем собственно подтекстуальные построения.
Эта справочная часть книги отчетливо показывает, что Мандель-штам видел идиоматический язык одновременно как несвободный, т. е. неразделяемый, и как свободный, т. е. поддающийся любым пе-рестановкам (219). Таким образом, подтверждается положение о творчестве Мандельштама как сочетании поэзии формул и поэзии сдвигов. В главе «Идиоматика в стихах Мандельштама: анализ тек-стов» (221–286) этот образ развертывается в детальных разборах ряда стихотворений: «В огромном омуте прозрачно и темно…» (1910), «С розовой пеной усталости у мягких губ…» (1922), «Довольно кукситься. Бумаги в стол засунем…» (1931), «Мастерица виноватых взоров» (1934), «Мир должно в черном теле брать» (1935), «Римских ночей полновес-ные слитки…» (1935), «Вооруженный зреньем узких ос…» (1937), «Сти-хов о неизвестном солдате» (1937) и «Пароходик с петухами…» (1937). Подробные описания функционирования идиоматики в этих текстах очень тщательны и открывают глаза не только на отдельные моменты, но и меняют взгляд на поэзию Мандельштама в более принципиальном смысле. В частности, хотелось бы отметить тонкие соображения о напряжении между ярким визуальным эффектом и метафорикой, «основанной на устойчивых языковых образах» и не поддающейся ви-зуализации17 ←26 | 27→(247) в «Вооруженный зреньем узких ос…». «Принцип[у] визуальности» – попавшему под общее подозрение в модернизме – авторы противопоставляют «семантическо[е] переживани[е] языка» (320). Но здесь опять возникает уже отмеченная нами проблема границ стихотворного текста. Старая мечта о прозрачности в модернизме преломляется на слове как «вещи» (ранний авангард) и на абсурдист-ских смысловых играх (поздний авангард). Семантическая поэтика Мандельштама убедительно описывается в книге как промежуточная позиция в этом контексте. Между тем тот вывод, что визуальность яв-ляется языковым конструктом, не означает, что всё дело только в этом конструкте и что его потенциальный не-языковой эффект – второсте-пенный. Визуальность и создание пространственного образа у Ман-дельштама (не только позднего) достигаются безусловно витиеватыми путями, но всё же достигаются. Возможно, тщательная лингвистиче-ская запись этих путей является как раз самой надежной точкой опо-ры в герменевтическом движении к сопровождающему стихотворение «миру»18.
Второй момент из этой части, который хочется выделить, касается знаменитой строки «От меня будет свету светло» из «Стихов о неизвестном солдате». Как пишут авторы, она восходит не только к Библии (Я свет миру; Ин. 8:12), но, скорее всего, указывает также на устойчи-вую формулу светлое будущее (260). Это дает повод задуматься об од-ной принципиальной проблеме, практически не затронутой в книге, а именно проблеме несобственной речи и иронии. В данном примере авторы используют слова «ассоциируется» и «обыгрывается». Но как можно при этом мерить степень (не)собственности речи, построенной из идиоматики? Отсылка к Библии и в то же время к революционной фразеологии – к чему же она приводит, если не к игре с нулевой суммой? Разумеется, мандельштамовский субъект осваивает идиоматику поэтически, использованные формулы переходят в сдвиги, но опять ←27 | 28→же, как это сказывается на «идеологической перспективе» (выражение из нарратологии Бориса Успенского и Вольфа Шмида)? Идиоматиче-ский подход, как кажется, в принципе не может дать ответа на такого рода вопрошание, так как (не)собственность речи не поддается чисто лингвистическому анализу. В лучшем случае более продуктивным тут окажется именно подтекстуальный подход, поскольку разные подтек-сты могут создавать контрасты, несомненно более резкие, чем «конта-минирующие» друг друга идиомы (другой вопрос, кстати, насколько короткие цитаты из Библии являются подтекстами или идиомами). По поводу сюжета и картины мира «Стихов о неизвестном солдате» Омри Ронен отсылал к космологии Фламмариона, а Борис Гаспаров – к мона-дологии Лейбница (Ронен 1979: IV, 214–222; Гаспаров 1994: 213–240). Как эти два несоизмеримых подтекста взаимодополняются или отталкиваются друг от друга? Это зависит от практики чтения, как справедливо ответили бы авторы «К русской речи». О степени (не)собственности подтексты сами по себе говорят столь же мало, как зафиксированные идиомы. Хочется добавить лишь, что и тут нельзя обойтись без реального, социо-политического и биографического комментария, чтобы хотя бы приблизительно установить идеологическую перспективу поэтического субъекта. Похожим образом обстоит дело с предельно проблематичным стихотворением того же года «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» (1937), так называемой «Одой» Сталину, которая в книге подробно не разбирается.
«Наиболее спорной» (57) сами авторы считают заключительную часть книги, «Интерпретация полученных результатов» (287–327), где развивается уже отмеченная гипотеза об «интуитивной понятности» поэзии Мандельштама благодаря латентно-нормирующему воз-действию идиоматики, «которая представляется формализуемым посредником между текстом и сознанием читателя» (326). Идиоматика вплетена в сложный язык Мандельштама и становится в нем текучей, часто неузнаваемой. В то же время она фигурирует как «компенса-торный» фактор, т. е., подспудно задавая тон и в каком-то смысле ←28 | 29→атмосферу «нормальности», компенсируя экспериментальность19. Процессы этой относительно легкой доступности, оговариваются авторы, «должны быть исследованы с привлечением нейрокогнитивных методов» (там же). Такая естественно-научная верификация остается за рамками книги. Важной представляется прежде всего сама модель. Если спросить, как так получилось, что Мандельштам – «любимый поэт многих читателей» (13), а не только филологов, поэт с сильным «иррациональным началом» (307), с которым чаще, чем кажется, соотносится и «иррационально[e] понимани[e]» (там же), то данная мо-дель покажется весьма перспективной. Уточнить хотелось бы даже не столько нейрокогнитивные процессы восприятия20, сколько социоло-гический профиль этих «любителей поэзии». Возможно, оказалось бы, что они всё равно в большинстве своем в какой-то степени «филоло-ги», что многие из них так или иначе проходили через подтекстуаль-ную школу, которая, помимо комментирования отдельных загадочных мест, основана на читательском опыте (каким бы он ни был) и в свою очередь транслирует какое-то общее ощущение причастности к ман-дельштамовскому космосу. Кроме того, многие из них, если не все, чи-тали воспоминания Надежды Мандельштам, которые дают другой, а именно базирующийся на «аутентичности» мемуаристки доступ к сти-хотворениям.
В заключение хотелось бы отметить еще один беспокоящий мо-мент, а именно национальную реинскрипцию: Мандельштам предсто-ит здесь русским поэтом для русскоязычных читателей. Безусловно, у Мандельштама много эмфатически русских (в смысле принадлежно-сти к русской поэтической традиции) элементов; достаточно вспом-нить об идее, что «каждое слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький кремль» (Мандельштам 2010 [1922]: 74). Кроме того, иди-оматика – это план языка, на котором, как правило, заканчиваются ←29 | 30→компетенции неносителей. Внимательное чтение «К русской речи» следует настоятельно рекомендовать всем нерусскоязычным русистам (вроде автора этих строк), чтобы напомнить им, насколько это деликатная вещь – читать поэзию не на «своем» языке. Но в том-то и дело, что Мандельштам в более широкой перспективе давно перестал быть только русскоязычным поэтом и стал «любимым поэтом» многих чи-тателей по-французски, по-итальянски, по-немецки, по-английски, по-польски, по-японски и т. д. Среди них многие не знают русского языка совсем. Возникает вопрос: какие факторы, кроме идиомати-ческого, способствуют «интуитивной понятности» и, следовательно, популярности Мандельштама за пределами русскоязычного простран-ства – популярности сегодня несравнимо большей, чем всех других русских модернистских поэтов?
Details
- Pages
- 510
- Year
- 2021
- ISBN (PDF)
- 9783631874691
- ISBN (ePUB)
- 9783631874707
- ISBN (Softcover)
- 9783631874684
- DOI
- 10.3726/b19510
- Language
- Russian
- Publication date
- 2022 (February)
- Keywords
- Osip Mandel’štam Andrej Platonov Intertextualität Phraseologie Poetische Sprache Onomastik Musikalische Motive Kriegsliteratur
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 510 pp., 6 fig. b/w.